Шрифт:
Закладка:
— «Голуаз»! — рассмеялся он.
Она оттолкнула его руку, достала из сумочки конверт, что-то подсчитала, потом разорвала конверт на мелкие клочки и долго сидела неподвижно, уставившись в пустоту.
— Ужаснее всего, — сказала наконец Одетта, — что он прав!
И процедила сквозь зубы:
— К тому же при условии, что я буду одна…
— Повтори, — взбесился Дутр.
— Что?
— То, что ты сейчас сказала.
Они свирепо смотрели друг на друга. Охваченный внезапной усталостью, Дутр положил руки на стол.
— Да, я знаю… — начал он.
— Замолчи, — сказала Одетта. — Я снова начну работать, вот и все.
Так она и поступила в тот же самый день. Дутр слышал, как она стонет в соседней комнате, пытаясь размять заплывшие жиром руки и ноги. Иногда раздавался глухой стук об пол. «У нее никогда больше не получится», — подумал Дутр. Он открыл окно, взглянул сверху на узкую и тихую провинциальную улочку. Выглядела она так удручающе, что он предпочел ей шум в соседней комнате. Он закрыл окно и стал расхаживать между шкафом и кроватью.
— Ты тоже работай! — крикнула Одетта.
— Я работаю, — ответил он.
Как всегда в минуты интенсивного раздумья, мозг рисовал ему четкие картины. То, что он сейчас видел, наполнило его ужасом. «Она и я, — думал он. — Она и я… Сколько лет еще впереди!» За стеной громко, с натугой дышала Одетта. Дутр сел на кровать, и вот обе девушки очутились в комнате — разные и зеркально одинаковые, чуть менее живые, чем прежде. Дутр, сгорбившись, смотрел на стену и видел за ней бесконечное множество лиц, а далее — руки аплодирующих зрителей. Он выходил на «бис». Он крепко держал за руку партнершу. Он чувствовал ее тонкое запястье, на котором, словно струны, дрожали два сухожилия. Потом он заметил красноватое покрывало. Его рука была пуста. Он был один. Один с Одеттой, конечно. Он подбросил свой доллар, долго смотрел на орла, больше похожего на грифа, и его заинтересовало: как связана с этим хищником женщина, обещавшая на оборотной стороне монеты свободу? Разве рабы не остаются рабами навсегда? Разве можно сбежать от муки, грызущей сердце? Сбежать… куда?
Он встал, пошел в комнату Одетты.
— Мог бы и постучать.
— Да ладно!
Она застегнула халат и пригладила растрепавшиеся волосы.
— Дай-ка сигарету… Мне бы сбросить килограммов десять! Из-за них я так нелепо выгляжу. Дура я была, что не следила за собой. Да говори же ты, черт возьми! Не стой как чурбан!
— Хотел бы я стать чурбаном, — сказал Дутр.
Одетта положила ему руку на плечо:
— Значит, ты несчастен? Я, наверное, надоела тебе? Конечно, я старая, уродливая. И все-таки, мой маленький Пьер, несмотря на все то, что с нами произошло… Я рада, что ты здесь, рада, что мы вместе. Утром тебе показалось, будто я раскаиваюсь, что связалась с тобой… Это не так. Я ни о чем не жалею. Обещаю тебе, мы выпутаемся. Я привыкла, не впервой!
Она нежно погладила Пьера по голове.
— Как ты скукожился! Не доверяешь, да? Я тебе не враг, Пьер. Не хочешь отвечать…
Она отошла на несколько шагов, поглядела на него, прикрыв глаза и выпуская сигаретный дым из уголка рта.
— Я все забываю, что ты — его сын, — пробормотала она. — Бывали дни, когда мне хотелось, чтобы он ударил меня, убил. Но нет. Он смотрел на меня немного исподлобья, вот как ты сейчас. Вы, мужчины, всегда смотрите как судьи! Ну давай, допрашивай меня!
Дутр вышел. Но едва он очутился на улице, как ему захотелось вернуться. Он не знал, куда девать огромную печаль, которая давила на плечи, будто тяжелый мешок. Рядом с Одеттой он задыхался; вдали от нее чувствовал себя потерянным. Он долго бродил по улицам. Он еще не стал бедняком, но в глубине души уже старался приноровиться к бедности. Пьер как бы примерял на себя мысли человека, исчерпавшего все возможности. Он не боялся, напротив, развязка привлекала его. Скудость… Дойти до той черты, когда утрачиваешь все, вплоть до имени! С самого начала, даже в периоды ложного процветания в Брюсселе и Париже, Дутр постоянно, шаг за шагом, как канатоходец, не переставал идти к… А в самом деле, к чему? Еще рано говорить об этом!
Он вернулся в гостиницу, где одетая в неизменный халат Одетта составляла программу. Она оглянулась:
— Хочешь о чем-то спросить?
— Вовсе нет, — досадливо запротестовал он.
Он издали прочел список вещей, отобранных Одеттой.
— Никак не можешь с ними расстаться, с этими корзинами, — проворчал он.
— Не могу! Да, не могу! — сказала Одетта низким, почти мужским голосом. — Надо делать то, что умеешь, не так ли? А уж если ты явился, то давай репетировать чтение мыслей…
Они работали до вечера, потом обедали в маленьком ресторанчике, где стоял такой шум, что им не надо было разговаривать. Одетта мало ела, много пила и засиделась допоздна с рюмкой коньяка. Они возвращались по пустынным улицам, где ветер сдувал первые осенние листья.
— Дай мне руку, — сказала Одетта.
Немного погодя она остановилась:
— Нам будет очень не хватать Владимира, малыш. И почему только он нас бросил?..
Дутр грубо оттолкнул ее, но она вцепилась в его руку, и они молча двинулись дальше. Первым заговорил Дутр:
— Он нас бросил, потому что уверен в насильственной смерти девушек. И ты знаешь это ничуть не хуже меня.
— Мог бы и потерпеть, подождать.
— Подождать чего? Ему осточертели фокусы и волшебные веревки.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Ничего.
Они подошли к гостинице.
— Спокойной ночи, — сказал Пьер. — Я еще немного прогуляюсь.
Она смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду, потом, спотыкаясь, поднялась по лестнице.
Назавтра Одетта получила записку от Виллори. Пьер подошел к ней:
— Он нашел что-нибудь?
— Как бы не так! Он будет нас мариновать, пока я не соглашусь на все его условия. Ни черта у него не выйдет! Продолжай… Я освобожусь через час.
Она опять надела черный костюм, шляпку, украшения, посмотрелась в зеркало. «Бедная моя девочка, — мысленно прошептала Одетта, — в твоем возрасте пора уже бросать работу!» Дутр рассеянно прятал туза треф, подбрасывал колоду, веером рассыпал ее в воздухе. Одетта остановилась в дверях и снова внимательно оглядела Пьера — тонкого, изящного, легкого, молчаливого.
— Увидишь, — сказала она. — Он ставит на мне крест. Все так думают. Кроме шуток!
Она хлопнула дверью. Пожав плечами, Дутр продолжил жонглировать картами. Это он еще любил. Может быть, и эта любовь ненадолго. Он несколько раз повторил особенно трудный фокус, затем
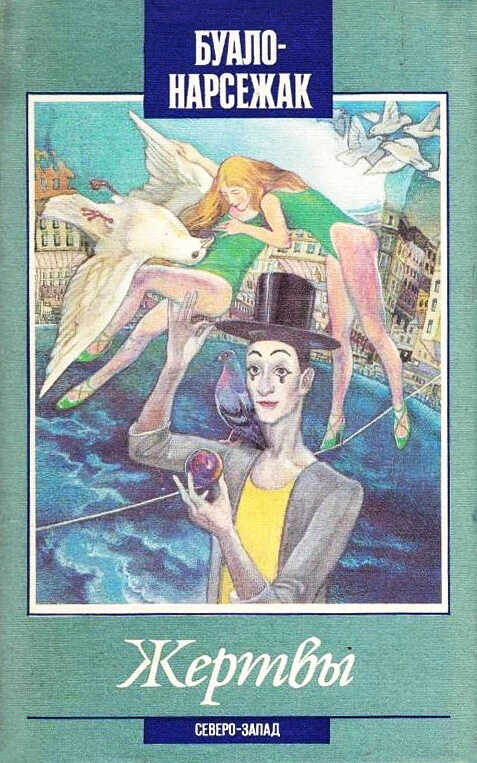
![Фокусницы [Куклы; Колдуньи] - Буало-Нарсежак](/uploads/posts/books/16780/16780.jpg)
![Убийство на расстоянии [Песенка, которая убивает] - Буало-Нарсежак](/uploads/posts/books/16779/16779.jpg)






